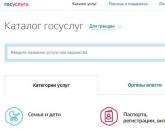Институциональная непрерывность и стратегия вашингтонского консенсуса. «Вашингтонский консенсус» в России
«Вашингтонский консенсус» - это свод экономических предписаний изложенных английским экономистом Джоном Уильямсоном в 1989 году. Они предназначались в качестве базовых указаний странам, нуждавшимся в помощи со стороны таких международных экономических организаций, как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Основной акцент делался на важность макроэкономической стабильности и интеграции в мировую экономику, другими словами, неолиберальное представление о глобализации. Однако он привел к ограниченным результатам, после того как был применен в странах, испытывавших
На протяжении многих лет «Вашингтонский консенсус» был обвинен по целому ряду серьезных дестабилизаций, в первую очередь в аргентинском кризисе. Джон Уильямсон отметил, что во многих случаях результаты его осуществления оказались разочаровывающими, определил некоторые недостатки, но в то же время подытожил, что эта политика принесла и положительные результаты, а именно - экономический рост, рабочую занятость, сокращение бедности во многих странах.
Идеи для того времени, когда они были сформулированы Уильямсоном, не были новыми. Но они представляли собой квинтэссенцию общих тем среди рекомендаций, которые определялись Всемирным банком, Министерством финансов США и другими органами кредитования.
Цель стандартного пакета реформ состояла в том, что решить реальные проблемы, сложившиеся в странах Латинской Америки. Его последующее использование в отношении других стран подвергается критике даже сторонниками правил. Как указал сам Уильямсон, термин, введенный им для десяти конкретных рекомендаций относительно экономической политики, стал использоваться в более широком смысле, чем по его первоначальному намерению, он стал ассоциироваться с рыночным фундаментализмом и неолиберальной политикой в целом. И в этом широком смысле «Вашингтонский консенсус» подвергся критике со стороны многих экономистов, в том числе и со стороны Джорджа Сореса, нобелевского лауреата Джозефа Стиглица, также и латиноамериканских политиков.
Общественность во всём мире сегодня уверена, что это свидетельствует о такой неолиберальной политике, когда международные финансовые учреждения Вашингтона создали ряд определенных мер в отношении латиноамериканских стран, испытывавших экономический кризис, которые привели к ещё большим потерям. Есть даже люди, которые не могут произнести слова «Вашингтонский консенсус» и при этом не прийти в ярость.
Десять реформ, составлявшие список Уильямсона, фактически представляли базовый уровень.
1. Бюджетная дисциплина. Это должно было осуществляться во всех странах, где был большой дефицит, приведший к кризису и высокой инфляции, который ударял по неимущим классам, так как богатые люди могли свои денежные активы хранить за границей.
2. Перераспределение государственных расходов в те области, которые предлагают высокую экономическую отдачу, и потенциал для улучшения (это медицинская помощь, начальное образование, инфраструктуры).
3. (снижение предельных ставок, расширение налоговой базы).
4. Либерализация процентных ставок.
5. Конкурентоспособный валютный курс.
6. Либерализация прямых иностранных инвестиций.
7. Приватизация.
8. Либерализация торговли.
9. Дерегулирование.
10. Обеспечение прав собственности.
Принятие многими правительствами «Вашингтонского консенсуса» было в значительной степени реакцией на глобальный экономический кризис, поразивший большую часть Латинской Америки и некоторые другие развивающиеся регионы в течение 1980-х годов. Возникновение кризиса имело несколько причин: резкий рост цен на импортируемую нефть после создания в 1960 году ОПЕК, установка уровня рост в США, а, следовательно, и в мире процентных ставок. В результате указанных проблем - потеря доступа к дополнительным иностранным кредитам.
Надо сказать, что многие другие страны пытались реализовать разные пункты, предложенного пакета, иногда он применяется в качестве условия для получения кредитов от МВФ и Всемирного банка.
Однако результаты этих реформ остаются темой для многочисленных дебатов, также экономисты и политики продолжают анализировать причины и факторы экономических кризисов, начиная с того времени, как случился первый мировой экономический кризис, в 1857 году, который оказал влияние даже на Россию. Факт в том, что Карл Маркс начал работу над «Капиталом» зимой 1857-1858 года, и это было вызвано экономическим кризисом, разразившимся осенью 1857 г. А сегодня, как известно, теория кризисов связана именно с марксистской экономикой.
Страница 3 из 18
Вашингтонский консенсус как «мыслеобразующий механизм нового этапа глобализации»
Исследователи глобализации по–разному трактуют и датируют заглавные события в общемировом сближении, отмечая подвиги Марко Поло, путешествия Магеллана, объединяющий характер первой промышленной революции. Еще Монтескье в «Духе законов» оптимистически заключает: «Две нации, взаимодействуя друг с другом, становятся взаимозависимыми; если одна заинтересована продать, то вторая заинтересована купить; их союз оказывается основанным на взаимной необходимости».
Но революционно быстрыми темпами мировое сближение осуществлялось лишь дважды.
1. В первом случае - на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков иммигранты пересекали океаны без виз. Мир вступил в фазу активного взаимосближения на основе распространения торговли и инвестиций в глобальном масштабе благодаря пароходу, телефону, конвейеру, телеграфу и железным дорогам, – перед Первой мировой войной размеры мира уменьшились с «большого» до «среднего». Британия со всем своим морским, индустриальным и финансовым могуществом была гарантом этой первой волны глобализации, осуществляя контроль над главными артериями перевозок товаров - морями и океанами, обеспечивая при помощи фунта стерлингов и Английского банка стабильность международных финансовых расчетов. Трансатлантический кабель 1866 года сократил время передачи информации между Лондоном и Нью-Йорком на неделю - в тысячу раз. А телефон довел время передачи информации до нескольких минут.
Идеологами первых десятилетий глобализации стали Р. Кобден и Дж. Брайт, которые убедительно для многих экономистов и промышленников обосновали положение, что свободная торговля необратимо подстегнет всемирный экономический рост и на основе невиданного процветания, основанного на взаимозависимости, народы позабудут о распрях. Идея благотворного воздействия глобализации на склонную к конфликтам мировую среду получила наиболее убедительное воплощение в книге Н. Эйнджела «Великая иллюзий» (1909). В ней - за пять лет до начала Первой мировой войны - автор аргументировал невозможность глобальных конфликтов вследствие сложившейся экономической взаимозависимости мира: перед 1914 годом Британия и Германия (основные внешнеполитические антагонисты) являлись вторыми по значимости торговыми партнерами друг друга - и это при том, что на внешнюю торговлю Британии и Германии приходилось 52% и 38% их валового национального продукта соответственно. Америка, Британия, Германия и Франция - утверждал Эйнджел, - теряют склонность к ведению войн: «Как может современная жизнь с ее всемогущим преобладанием индустриальной активности, с уменьшением значимости милитаризма, обратиться к милитаризму, разрушая плоды мира?»
Но в августе 1914 года предсказание необратимости глобального сближения наций показало свою несостоятельность. Первая мировая война остановила процесс экономически-информационно-коммуникационного сближения наций самым страшным образом. Выгоды глобализации уступили место суровым геополитическим расчетам, историческим счетам, уязвленной гордости, страху перед зависимостью. Скажем, российское правительство посчитало нужным специально
(и официально) указать на губительность исключительной зависимости России от торговли с монополистом в ее внешней торговле - Германией (на которую приходилось 50% российской торговли).
В 1914-1945 гг. последовало страшное озлобление и фактическая автаркия. [Автаркия (от греч. autarkeia - самоудовлетворение) – политика экономического обособления, проводимая страной, регионом, направленная на создание изолированной, замкнутой, независимой экономики, способной обеспечить себя всем необходимым самостоятельно].
Семидесятилетний период между началом Первой мировой войны и окончанием «холодной войны» был промежуточным периодом между первой и второй глобализациями. Для реанимации процесса глобального сближения понадобилось немало времени. Лишь в последние десятилетия ХХ века, после двух мировых войн, великой депрессии и многочисленных социальных экспериментов, способствовавших противостоянию социальных систем, либеральный экономический порядок, созданный в девятнадцатом веке стал возвращаться в мировую практику. В соревновании с плановой экономикой западная - рыночная система экономической организации победила, превращая мир в единую рыночную экономику.
Второе рождение (или возрождение) глобализации началось в конце 1970-х годов на основе невероятной революции в совершенствовании средств доставки глобального радиуса действия, в информатике, телекоммуникациях и диджитализации. «Смерть» пространства явилась наиболее важным отдельно взятым элементом, изменившим мир между двумя фазами, двумя периодами глобализации. Это изменило представление о том, где должны люди работать и жить; изменило концепции национальных границ, традиции международной торговли. Это обстоятельство имело такой же переворачивающий все наши представления характер, как изобретение электричества.
Вашингтонский консенсус. В начале 1980-х годов руководители трех самых мощных экономических ведомств, расположенных в американской столице – министерство финансов США, Международный валютный фонд и Всемирный банк достигли согласия в том, что главным препятствием экономическому росту являются таможенные и прочие барьеры на пути мировой торговли. Глобальной целью стало сокрушить эти барьеры. Так сформировался т. н. Вашингтонский консенсус, чья деятельность открыла ворота мировой глобализации. Собственно Вашингтонским консенсусом называют десять рекомендаций по реформированию мировой торговли, сформулированные в 1989 году американским экономистом Дж. Вильямсоном.
1. Налоговая дисциплина. Большие и постоянные дефициты бюджета порождают инфляцию и отток капитала. Государства должны свести этот дефицит к минимуму.
2. Особая направленность общественных расходов. Субсидии предприятиям должны быть сведены до минимума. Правительство должно расходовать деньги лишь в сфере образования, здравоохранения и на развитие инфраструктуры.
3. Налоговая реформа. Сфера налогооблагаемых субъектов в обществе должна быть широкой, но ставки налогов - умеренными.
4. Процентные ставки. Процентные ставки должны определяться внутренними финансовыми рынками. Предлагаемый вкладчикам процент должен стимулировать их вклады в банки и сдерживать бегство капиталов.
5. Обменный курс. Развивающиеся страны должны ввести такой обменный курс, который помогал бы экспорту, делая экспортные цены более конкурентоспособными.
6. Торговый либерализм. Тарифы должны быть минимальными и не должны вводиться на те товары, которые способствуют (как части более сложного продукта) экспорту.
7. Прямые иностранные капиталовложения. Должна быть принята политика поощрения и привлечения капитала и технологических знаний.
8. Приватизация. Должна всячески поощряться приватизация государственных предприятий. Частные предприятия обязаны быть более эффективными хотя бы потому, что менеджеры заинтересованы непосредственно в более высокой производительности труда.
9. Дерегуляция. Излишнее государственное регулирование порождает лишь коррупцию и дискриминацию в отношении субподрядчиков, не имеющих возможности пробиться к высшим слоям бюрократии. С регуляцией промышленности следует покончить.
10. Права частной собственности. Эти права должны быть гарантированы и усилены. Слабая законодательная база и неэффективная юридическая система уменьшают значимость стимулов делать накопления и аккумулировать богатства.
Идеи «вашингтонского консенсуса» стали основой либерального фундаментализма1990-х годов. Приступившие к реформации своей экономики и экономической политики правительства развитых, развивающихся и стран переходной экономики получили своего рода предписание. Это, по сути, и был тот самый «золотой корсет», о котором речь будет идти ниже. Термин «вашингтонский консенсус» приобрел особое значение и начал собственную жизнь - особенно в свете крушения советской системы. Шли поиски сугубо альтернативных социалистическому централизму идей и «ложка оказалась к обеду». Как пишет главный редактор журнала «Форин полиси» М. Наим, «важной функцией каждой идеологии является функционировать в качестве «мыслеобразующего» механизма, который упрощает и организует то, что часто является сбивающей с толку хаотической реальностью».
Поиски такой схемы были облегчены самим уверенным тоном (консенсус), предначертательным характером его постулатов, его директивной уверенностью, местом рождения - Вашингтоном, столицей победоносной империи. Потребность в новоприобретенном, рыночно-ориентированном администрировании для сглаживания болезненного эффекта экономических реформ, требуемых консенсусом, равно как и отсутствие достойной доверия альтернативы (которую так и не представила дискредитированная оппозиция) также содействовали вознесению репутации «вашингтонского консенсуса», его элана. Если бы всего этого было бы недостаточно, то в ход пошла бы неукротимая настойчивость Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, чьи займы были обусловлены именно в духе идей «вашингтонского консенсуса». [Международный валютный фонд (МВФ) – международная валютно-финансовая организация, созданная в 1944 г. для содействия развитию международной торговли и валютного сотрудничества Капитал МВФ образуется из взносов стран-членов в соответствии с устанавливаемой для каждой страны квотой].
Стал очевидным новый характер глобализационных процессов. Мир в конце ХХ века решительно уменьшился. За последние тридцать лет реактивная авиация сблизила все континенты. Произошло то, что именуют политическим триумфом западного капитализма. В 1975 году только восемь процентов мирового населения жили в странах с либеральным свободнорыночным режимом, а прямые заграничные инвестиции в мире равнялись 23 миллиардам долларов (данные Всемирного банка). К концу века численность населения, живущего в свободно рыночных, либеральных режимах достигла 28 процентов, а объем внешних инвестиций достиг 644 миллиардов долларов. По мере завершения двадцатого века более отчетливо, чем прежде проявило себя то правило, что мировое разделение труда, экспорт правит миром. Мировой экспорт полвека назад составлял 53 млрд долл США, а в конце ХХ века - около 7 трлн долл США.
В этих странах править жизнью стала информатика. В мире около двух с половиной сот миллионов компьютеров (из низ примерно 90 процентов - персональные). Их численность в мире растет примерно на 20 тысяч единиц ежегодно. Объем информации на каждом квадратном сантиметре дисков увеличивался в среднем на 60% в год, начиная с 1991 года. Особенностью глобализации стала компьютеризация, миниатюризация, диджитализация, волоконная оптика, связь через спутники, Интернет.
Новыми хозяевами жизни стали столпы мировой информатики. Одна лишь производящая компьютерные программы компания «Микрософт» производит ныне богатств больше, чем гиганты «Дженерал моторс», «Форд» и «Крайслер» вместе взятые. А личное состояние президента «Микрософта» Б. Гейтса бросило вызов самому смелому воображению.
Еще более жестко чем прежде проявил себя тот факт, что производительные силы современного мира принадлежат крупным компаниям-производителям, тем многонациональным корпорациям (МНК), полем деятельности которых является вся наша планета. В современном мире насчитывается около двух тысяч МНК, которые распространяют свою деятельность на шесть или более стран.
Прежний зенит и нынешний надир идеологии. Что действительно бросается в глаза - это то, что первая глобализация на протяжении девятнадцатого и начала двадцатого века породила огромную волну возмущения «темными сатанинскими мельницами» так называемого прогресса, обернувшегося дарвиновским выживанием сильнейшего. Коммунистический манифест еще в
1848 году дал столь убедительную для многих характеристику первой фазы глобализации: «Постоянная революционизация производства, непрекращающееся изменение всех социальных условий, постоянная неопределенность и возбуждение отличают буржуазную эпоху от всех прежних эпох. Все устоявшиеся, замороженные отношения с их потоком старых и освященных традициями предрассудков и предвзятых мнений сметены, все новообразованные - устарели еще до начала своего утверждения. Все, что казалось столь прочным, теряет свою форму и плавится, все священное профанируется, и человек в конечном счете вынужден в холодном свете разума оценивать реальные условия жизни и свое отношение к этому миру». На арену общественной жизни немедленно вышли социальные силы, организовавшиеся в политические партии и движения, одержавшие, начиная с 1899 года мирные парламентские победы во Франции, Скандинавии, Италии, Германии, Британии и др. странах, а также с 1917 по 1961 гг. – вооруженные победы в столь различных странах, как Россия, Китай, Куба. Эти силы разрушили старый порядок, смели с лица Земли почти все прежние иерархии, перекроили карту мира, изменили соотношение мирового могущества.
Ничего подобного не произошло в ходе второй – современной – глобализации. В 1961 году Фидель Кастро, надев военную форму, объявил о своих коммунистических убеждениях. А в январе 1999 года он, в штатской одежде, открыл конференцию по глобализации, на которую были приглашены теоретические «отцы» глобализации и ее практические деятели - экономист
М. Фридман и финансист Дж. Сорос. Силы сопротивления показали свое недовольство демонстрациями на сессиях МВФ, Всемирного банка, Всемирной торговой организации, на всемирной конференции по окружающей среде в Сиэтле, Праге, в Гааге, но организованного массового отпора насильственного характера вторая глобализация не получила. Почему? Ответ сводится к тому, что оппозиция - страдающая сторона - не выдвинула приемлемой, привлекательной, вызывающей массовое объединение альтернативы.
Что мы видим сейчас? Предоставим слово газете «Нью-Йорк Таймс»: «Только одно можно сказать об альтернативах - они не работают. К этому выводу пришли даже те люди, которые живут в условиях отрицательных последствий глобализации. С поражением коммунизма в Европе, в Советском Союзе и в Китае - с крушением всех стен, которые защищали эти системы - эти народы, испытывающие жестокую судьбу в результате дарвиновской брутальности свободнорыночного капитализма, не выработали цельной идеологической альтернативы. Когда встает вопрос, какая система сегодня является наиболее эффективной в подъеме жизненных стандартов, исторические дебаты прекращаются. Ответом является: капитализм свободного рынка. Другие системы могут более эффективно распределять и делить, но ни одна не может больше производить... Или экономика свободного рынка, или Северная Корея».
Реальный суверенитет vs.
экономика зависимости
После «крымского поворота» российской истории основные персонажи так называемой «несистемной оппозиции» стали не то чтобы крайне непопулярны, а радикально неинтересны. Историю в этот момент делала власть, сконцентрировав в одной точке преимущества стабильности и энергетику трансформации. Тот факт, что спустя три года либеральная фронда играет первым номером, возвращает себе инициативу в формировании повестки дня, не является вызовом власти президента, но является вызовом его лидерству .
Под лидерством я имею в виду не статическое состояние (политический облик президента Путина, его авторитет вполне устойчивы; в некотором смысле, они уже историческая данность), а динамический эффект – способность давать обществу осмысленную перспективу, вести за собой. Иными словами – быть в средоточии исторического процесса, где один успешный «ответ» влечет новый «вызов», и инициатива принадлежит тому, кто берется (не обязательно успешно, но убедительно) разрешить ключевые противоречия своего времени.
Одно из таких противоречий сегодня – это противоречие между демонстрируемым уровнем военно-политического суверенитета страны и моделью зависимого развития в экономической сфере. Подчеркну, речь в данном случае не о желаемом уровне экономического развития (понятно, что все мы хотим быть «богатыми и здоровыми»), а именно о его модели.
Модель зависимого развития – это, коротко говоря, модель тесной интеграции развивающихся стран в миросистему на условиях стран-лидеров. В разные эпохи эти условия могут несколько варьировать. Применительно к реалиям финансовой глобализации конца XX – началаXXIвв. они были сформулированы в принципах так называемого «вашингтонского консенсуса». Жесткая денежно-кредитная политика, либерализация внешней торговли и финансовых рынков, свободный обменный курс национальной валюты, приватизация как панацея и дерегулирование экономики – эти и подобные им правила, сформулированные Джоном Вильямсоном в 1990 г. в статье «Что понимает Вашингтон под политикой реформ», составили макроэкономический кодекс неолиберала применительно к развивающимся рынкам. «Десять заповедей» «вашингтонского консенсуса» – это краткий конспект того, что нужно от нас глобальному капиталу.
Надо сказать, что даже в условиях жесткого санкционного давления финансово-экономический блок правительства приложил все усилия к тому, чтобы эти заповеди соблюдать, что делает нас свидетелями (и, к несчастью, объектом) интересного эксперимента: как хранить верность «вашингтонскому консенсусу» на фоне объявления бессрочной экономической войны со стороны Вашингтона?
Так или иначе, противоречие между геополитическим суверенитетом и экономикой зависимости может разрешиться двояким образом: либо через приведение экономической модели в соответствие с геополитическим статусом либо, напротив, через претворение «экономики зависимости» в «политику зависимости».
На мой взгляд, сегодня это главный параметр политико-идеологического размежевания в правящем слое, не совпадающий с критерием «лояльность» – «оппозиционность».
Понятно, что носителем второго сценария в наиболее явном виде выступает все та же «несистемная оппозиция», но в этом вопросе к ней примыкает значительная и влиятельная часть российской правящей элиты, которая считает «экономику зависимости» безальтернативной, а игры в суверенитет – зашедшими слишком далеко. Возможно, «политику зависимости» она предпочтет выстраивать по сценарию мягкой, а не обвальной десуверенизации, но сам выбор – равнять «геополитику» по «экономике», а не наоборот, – для нее очевиден.
Учитывая компромиссный характер сложившегося в России политического режима, в нем заложено явное стремление уклониться от этого выбора. Политический ресурс президента может оказаться для этого вполне достаточным. Он позволяет выиграть выборы и, возможно, даже обеспечить стабильность на протяжении еще одного срока. Но вопрос в том, чтобы накопившиеся противоречия не разорвали систему по его окончании. И еще – чтобы у общества, как и у самого президента, не было ощущения, что они вместе «отбывают» этот последний срок.
Для этого общество и власть должны быть связаны ощущением миссии, соответствующей текущему историческому моменту. Как и все главные вещи, эта миссия лежит на поверхности: сделать суверенизацию России необратимой . То есть комплексной –подкрепленной на экономическом, социальном, технологическом уровне.
Одно из обстоятельств, мешающих выбору в пользу стратегии комплексного суверенитета , – уверенность в том, что она не может означать ничего иного, кроме построения экономики осажденной крепости. Эта уверенность – ложная, но глубоко укорененная. В этом плане она сродни убеждению, что единственная реальная антикоррупционная альтернатива – «сталинские репрессии».
Основной вопрос экономики
Альтернативой узкоспециализированной «экономике зависимости» является не полностью автаркическая, а, по выражению Якова Миркина «универсальная экономика», или экономика полного цикла, обеспечивающая себя большей частью номенклатуры товаров конечного потребления и услуг. Это не закрытость от внешних обменов, но преобладание внутренних обменов над внешними – абсолютно естественное для крупных стран.
Примечательно, что год назад на заседании Экономического совета, анонсировав конкуренцию экономических стратегий, президент одновременно призвал к деидеологизации экономической дискуссии. И вполне справедливо: мы сполна испили чашу экономического догматизма как в социалистическом, так и в либерально-рыночном наполнении. Но экономическая политика, как и любая другая, подразумевает выбор не только средств для достижения целей, но и самих целей.
Сегодня основной мировоззренческий вопрос экономической политики и соответственно идеологический нерв дискуссий в этой сфере – это не вопрос баланса между государственным и частным сектором, планом и рынком, «количественным смягчением» и «сжатием». Это вопрос выбора между «разомкнутой экономикой», структура которой производна от ее специализации в мировой торговле (и которая, как следствие, фрагментирована – «порталы» глобального мира в каждой отдельно взятой стране перемежаются с зонами отсталости), и экономикой «страны-системы» (если использовать термин Эдварда Люттвака), ориентированной на сопряженное развитие внутренних социальных групп, отраслей, территорий.
На этот осевой выбор накладываются другие альтернативы в социально-экономической сфере, и их можно вполне наглядно проследить на примере уже упомянутых конкурирующих стратегий. К сожалению, это сравнение обречено быть довольно условным: в отличие от «Стратегии роста» , подготовленной Столыпинским институтом и представленной недавно на Ялтинском экономическом форуме, программа Центра стратегических разработок остается закрытым документом. Тем не менее, дозированные утечки позволяют судить о его направленности.
Прежде всего, стоит отметить наличие определенного набора тем и позиций в общем знаменателе обеих стратегий. Это вопросы судебной реформы и правопорядка, снижение административного давления на бизнес, приоритет развития инфраструктуры, усилия по «цифровизации» экономики и администрирования. Судя по недавнему интервью Алексея Кудрина , в этот общий знаменатель попадает даже умеренное смягчение денежно-кредитной политики.
Тем более показательны имеющиеся на этом фоне разногласия. Принципиальный характер им придает уже упомянутый подспудный выбор между «разомкнутой экономикой» и экономикой «страны-системы».
Например, для «экономики полного цикла» принципиален емкий внутренний рынок. Соответственно, «Стратегия роста» выводит в приоритет генерацию качественных рабочих мест и опережающий рост доходов, а также предлагает политику социального выравнивания (прогрессивный НДФЛ). Алексей Кудрин и системные либералы, напротив, традиционно выступают за экономику «дешевого труда» (в том числе, за счет масштабного импорта рабочей силы) и против прогрессивного налогообложения.
«Стратегия роста» рекомендует на первых этапах модернизации «умеренно-жесткую протекционистскую политику» в духе «толкового тарифа» Витте и Менделеева (высокие пошлины на потребительские товары, низкие – на импорт средств производства). Алексей Кудрин считает , что «мы должны поддерживать и расширять наше участие во всех основных соглашениях» (по контексту, очевидно, имеются в виду соглашения в рамках ВТО), поскольку заинтересованы в наращивании несырьевого экспорта.
Кстати, аргумент «от экспорта» в данном случае довольно условный: если мы будем, например, вводить заградительные барьеры для продукции Boeing иAirbus, это вряд ли сильно обеспокоит потенциальных покупателей Сухой-Superjet или МС-21, поскольку ни США, ни страны ЕС к их числу явно не относятся. Иными словами, обеспечение доступа на внешние рынки возможно на основе двусторонних соглашений и привилегированных партнерств, а не универсальных обязательств по открытию собственных рынков.
Авторы «Стратегии роста» говорят о необходимости «налоговой мотивации перехода в российскую юрисдикцию», каковой может стать «оффшорный коэффициент по налогу на прибыль и налогу на имущество». Алексей Кудрин не раз высказывался против даже ограниченных мер по деофшоризации , равно как и против мер «мягкого» валютного регулирования в кризисных условиях.
Примечательно и другое отличие. Один из принципиальных тезисов «Стратегии роста» – восстановление экономики «простых вещей» (т.е. производства широкого спектра потребительских товаров, которые сегодня импортируются) и повышенное внимание к базовым «среднетехнологичным» отраслям промышленности (АПК, переработка полезных ископаемых, транспорт, строительство). Риторика Алексея Кудрина сочится «инновациями» и хайтеком.
Конечно, устремленность ЦСР в технологическое будущее можно только приветствовать. Но вот имеет ли смысл «инноватизация» в отрыве от комплексной промышленной политики? В европейских дискуссиях о технологической политике в этой связи возник хороший термин – «высокотехнологическая близорукость». Это склонность к недооценке базовых отраслей в угоду той или иной «инновационной моде».
Сегодня инновационная мода задается в дискуссиях о «новой промышленной революции», под которой понимается, главным образом, нарастающий процесс «цифровизации» материального производства и сферы услуг. Главный политический акцент программы ЦСР, насколько мы можем судить по сделанным заявлениям, – своего рода призыв к государству со стороны прогрессивной общественности: меняться, чтобы «не проспать» технологический рывок. Главное практическое следствие – опережающие вложения в «человеческий капитал».
Тезис о приоритетности образования и здравоохранения трудно не поддержать, но он имеет мало смысла вне контекста создания критической массы высокопроизводительных рабочих мест. Даже нынешний мало кого вдохновляющий образовательный контур страны в целом избыточен по отношению к существующему рынку труда. Кстати, это одна из причин абсурдности безупречно гуманистического лозунга: «давайте отнимем заказ у военной промышленности и вложим деньги в образование». На практике это означает: сократить один из немногих наукоемких секторов обрабатывающей промышленности, чтобы произвести еще больше дипломированных офис-менеджеров и сторожей, профессиональных безработных и эмигрантов.
Не будут ли опережающие вложения в человеческий капитал вне контекста масштабной программы создания рабочих мест (о каковой в исполнении ЦСР пока ничего не известно) – способом еще активнее «истекать в мир мозгами» (по выражению Александра Аузана)? Аналогичный вопрос уместен и в отношении самой концепции «новой промышленной революции». Не станет ли она в прочтении ЦСР очередным флагом старой доброй деиндустриализации, каким стала в свое время концепция «постиндустриального общества» в исполнении отечественных либералов? Например, может обнаружиться, что мы в очередной раз «навсегда отстали»: раз у нас слабо внедряются промышленные роботы (а сейчас это, к сожалению, так), то давайте, наконец, покончим с «ржавым поясом» отечественной тяжелой индустрии и сосредоточимся на «индустрии впечатлений» и в целом сфере услуг (как предлагалось в свое время в либеральной «Стратегии-2020»).
Путь в будущее лежит через внутренний рынок
Сказанное ни в коей мере не отменяет значения тех тектонических сдвигов, которые происходят в сфере производственных технологий и которые повлекут серьезные геоэкономические сдвиги. И то, и другое для нас – серьезный вызов. Только на него нельзя ответить под лозунгом «еще больше вашингтонского консенсуса». Тем более что трансформации, о которых идет речь, имеют прямо противоположный вектор.
Как отмечает один из авторов концепции «Индустрия 4.0.» Питер Марш, «экономическая модель, в которой американцы и европейцы покупают китайские товары на деньги, занятые у всего мира, теперь догорает на глазах у всей планеты». Ему вторят аналитики Boston Consulting Group: «глобальное производство будет все чаще становиться региональным... все большее число товаров, потребляемых в Азии, Европе и Америках, будет сделано вблизи дома». Это происходит под влиянием целого ряда геоэкономических и технологических факторов. Главный из геоэкономических факторов – растущее беспокойство Запада по поводу конкуренции со стороны Китая как многопрофильной промышленной державы. В числе технологических факторов:
· 3D-печать, которая благоприятствует кастомизации (производству под запрос) и позволяет избавиться от длинных логистических цепочек;
· роботизация, которая позволяет по-новому взглянуть на сравнительные трудовые издержки в развитых и развивающихся странах;
· удешевление производственных технологий в ряде отраслей, которое делает их окупаемыми не только в больших или гигантских, но и в малых и средних сериях.
Все это программирует ключевой стратегический эффект промышленной революции: производство становится ближе к потреблению. Ближе – буквально: географически, геоэкономически.
Но это значит, что Индустрия 4.0. будет развиваться прежде всего там, где есть тот самый емкий и разнообразный внутренний рынок, на развитии которого сфокусирована «Стратегия роста» и которым нарочито пренебрегают системные либералы. С этой точки зрения восстановление экономики «простых вещей» и развитие базовых отраслей (как фактора занятости и общей производственной культуры) стали бы гораздо большим вкладом в наше технологическое будущее, чем бег по кругу «глобальных технологических цепочек».
В России действительно есть истории экономического и технологического успеха, связанные с той стратегией, к которой отсылает известная фраза Кудина – участие в глобальных технологических цепочках на вторых ролях. Хорошо, если эти истории будут тиражироваться и масштабироваться. Но они не смогут стать основной формулой общенационального экономического успеха. С одной стороны, Россия слишком большая, чтобы целиком уместиться в прокрустово ложе нишевых индустрий категории B2B (поставки комплектующих и услуг для производителей в других странах). С другой стороны, она достаточно большая, чтобы позволить себе что-то большее.
И главное, в рамках нового экономико-технологического уклада глобализация (по крайней мере, в ее прежней модели) становится все более провинциальной идеей. А общемировые тенденции, к которым любят апеллировать идеологи экономики зависимости, сегодня благоприятны как раз для построения в России многопрофильной и самообеспечивающей экономики. Это новый протекционизм в исполнении крупных держав, новая промышленная революция как фактор решоринга. Это возрастающий акцент на производстве уникальной продукции (в которой мы традиционно сильнее, чем в «конвеерных технологиях»).
Все это создает историческое окно возможностей для того, чтобы сделать выбор в пользу стратегии комплексного суверенитета. Пространством, где совершается сегодня этот выбор, является не внешняя политика, а экономическая идеология следующего президентского срока.
Термин «зависимое развитие» ассоциируется с работами 1950-х гг. аргентинца Рауля Пребиша, но школа мысли, разрабатывающая эту проблему, имеет более глубокую родословную (Фридрих Лист, немецкая историческая школа) и более чем актуальное продолжение («мир-системный» анализ Валлерстайна, работы Эрика Райнерта, Ха-Джун Чанга и др.).
Вашингтонский консенсус как термин был предложен американским профессором Джоном Уильямсоном в конце 80-х годов XX века совместно со специалистами МВФ и представлял собой программу рекомендательного характера по выходу из экономического кризиса для стран Латинской Америки, которые погрязли в долговых обязательствах перед американскими банками. В 90-е годы подобной экономической политики придерживались некоторые страны Восточной Европы и Прибалтики.
Правила и идеи Вашингтонского консенсуса
Вашингтонский консенсус предполагал перечень экономических мероприятий, таких как:
- активизация внешней торговли путем уменьшения пошлин на импорт,
- выделение в структуре расходов государства приоритетных направлений (образование, развитие инфраструктуры и здравоохранение),
- формирование кредитных ставок, отражающих реальную ситуацию на финансовом рынке,
- курс на приватизацию предприятий всех отраслей экономики,
- минимизация бюджетного дефицита,
- плавающий курс национальной валюты,
- создание положительного инвестиционного климата,
- сокращение вмешательства государства в экономику,
- уменьшение налогового бремени путем снижения ставок налогообложения,
- признание неприкосновенным права собственности.
Глава МВФ, выступил с заявлением, что консенсус с его упрощёнными экономическими представлениями и рецептами рухнул, став причиной кризиса 2008-2009 гг.
Результаты Вашингтонского консенсуса
Оппоненты данного курса выдвигают свое видение последствий данной политики:
- сворачивание ряда социальных программ и увеличение налогового бремени на бедные слои населения,
- снижение финансирования мероприятий по охране окружающей среды и экологии,
- торможение развития промышленности и поощрение спекулятивных операций путем повышения процентных ставок,
- зависимость от доллара США курса национальной валюты,
- приватизация всех отраслей экономики, в том числе сфер с монопольным влиянием, что позволяет монополиям бесконтрольно повышать цены,
- сокращение денежной массы в обороте и как следствие — появление дефицита наличности,
- снижение уровня заработных плат и ограничение прав профсоюзов.
Мнение: вашингтонский консенсус в реальности долларизирует экономики, способствует под эгидой западных . Возможно, это не так уж и плохо — мир становится связанным, меньше поводов для конфликтов.
Долларизация происходит благодаря экспансии, росту кредитования. Однако когда население развитых стран закредитовано, все рынки (включая самые чёрные) уже долларовые, и нет места для экспансии — наступает коллапс Вашингтонского консенсуса.
Чтобы спасти доллар необходимо сократить эмиссию, что Обама и сделал в 2014. У транснациональных компаний — кризис ликвидности. Где взять деньги? Серия девальваций валют в основном развивающихся стран. Но это только отсрочило ситуацию.
Для стран, в которых запущен этот механизм, это по сути — есть где она работает, но чаще результаты весьма плачевны.
Ряд мер Вашингтонского консенсуса лег в современные условия кредитования, которые выдвигает для потенциальных заемщиков.
Консенсус снижает роль государства в экономике, в периоды кризисов это не всегда хорошо, поскольку консолидация рынка (которую может организовать крупный институт, например гос. власть) может способствовать скорейшему восстановлению.
Есть мнение, среди , что ВК — это способ импортировать в страну революцию. Так повлияли на СССР, но не смогли обрушить Китай. Кроме того через меры, введённые в рамках консенсуса средства из стран выкачиваются в США.
Директор МВФ, Мишель Камдессю.
Именно эту и привезли в Москву американские «эксперты», возглавляемые Джерри Саксом. Привезли сразу же после попытки ГКЧП сохранить Советский Союз, так напугавшей США в конце августа 1991 года.
 Джерри Сакс
Джерри Сакс
Когда Хазбулатов, возглавлявший в те дни Верховный Совет, рассказал недалёкому Ельцину всю историю с программой «Вашингтонский консенсус» тот был удивлен. Но, Гайдар, Бурбулис, Чубайс и К°, сумели его успокоить, Ельцин упорно продолжал настаивать на верности «избранного курса».
Он продолжал настаивать на выполнении «Консенсуса» даже тогда, когда всему миру был очевиден крах этой программы - везде, где пытались его осуществить. Конечно, программа являлась мощным инструментом МВФ, ее курировал исполнительный директор МВФ, Мишель Камдессю.
Верховный Совет мешал правительству Гайдара применить «Вашингтонский консенсус» в России и пытался смягчить шоковую терапию. Кстати, термин «шоковая терапия» принадлежит польскому премьеру Бальцеровичу , который первоначально принял указанную гарвардскую «Программу» и попытался ее внедрить, но быстро отказался от нее, просчитав гибельные последствия. В результате, «большая приватизация» в Польше началась спустя более 10 лет после того, как эта страна приступила к радикальным реформам, в 2000 году. Таким образом, «Вашингтонский консенсус» не был реализован в полном объеме ни в одной стране мира, кроме России. Все это умалчивается до сегодняшнего дня.
Но правительство «реформаторов» ухватилось за эту программу, как дурень за погремушку, и началось внедрение её в жизнь. Как мы уже говорили, Верховный Совет всячески способствовал торможению дикой приватизации и ломки народного хозяйства. В частности, им было предложено разделить экономику на два сектора:
Первый сектор:
тяжелая промышленность, отдельные отрасли машиностроения, включая ВПК;
недра, добыча руд, нефти, газа и все трубопроводы;
железные дороги, базовый морской транспортный флот, речной флот, весь гражданский флот.
Эти отрасли и сферы экономики должны были сформировать государственный сектор экономики.
И второй сектор:
легкая и пищевая промышленность;
торговля - внутренняя и внешняя, отрасли машиностроения, ориентированные на производство товаров для нужд экономики и населения;
гражданское строительство, вся сфера «экономики строительства», включая лесо- и деревообрабатывающую промышленность;
производство различных стройматериалов и пр.;
производство бытовой техники (телевизионной и пр.), и многое другое, не попадающее в перечень «первой группы».
При этом важнейшим направлением приватизации рассматривался механизм стимулирования создания новых предприятий частного сектора, а не просто перевод предприятий из одного качественного состояния в другое.
По сути эти предложения - бомба под советскую экономику, но бомба более мягкая, более размытая во времени. Ибо, как говорится в старой народной сказке: сто́ит только разрешить лисичке положить хвостик на порог избушки и, глядишь, а она уже внедрила в твою избушку весь свой рыжий организм, и тебе уже тесновато с новой гостьей. А через недалёкое время вы меняетесь с ней ролями. Уже хозяйка она, а вы пляшете под музыку, которую заказывает новая мадам.
Правительство, которое претворяло в жизнь планы Вашингтона, возглавил Егор Гайдар . Он был и.о. главы правительства РФ всего 6 месяцев: июнь-декабрь 1992 года, но наворочал столько, что до сих пор разгрести не могут. Да и не пытаются.
 Егор Гайдар
Егор Гайдар
Гайдар был партийным журналистом-публицистом, получил экономическое образование в МГУ. Никем и ничем никогда не руководил, никакими экономическими исследованиями не занимался. Работал редактором в отделе экономики журнала ЦК КПСС «Коммунист». Затем его повысили - перевели, в 1989 году, редактором отдела экономики «Правды» - центрального органа ЦК КПСС. Гайдар стал консультантом министра финансов Валентина Павлова, который задался целью выполнить две задачи, которые, на его, Павлова, взгляд, могли решить серьезные финансово-бюджетные проблемы СССР.
 Валентин Павлов
Валентин Павлов
Первая задача : в 4-10 раз повысить цены на потребительские товары и продукты питания (при минимальном повышении заработной платы).
Вторая задача : «распылить» сбережения населения на счетах сберегательных касс (то есть Госбанка). Павлов исходил из вульгарной концептуальной идеи, что накопленные крупные сбережения населения (свыше 700 млрд. долл.) «давят» на бюджет, способствуют его неустойчивости.
Этот план Павлова Гайдар сумел осуществить (вместе с Геращенко) , через печатание новых денежных купюр, то есть стимулирование инфляции. Тут будет уместно вспомнить новые купюры в 200 и 2 000 целковых, выпущенные несравненной Эльвирой, нашей, Сахипзадовной.
Одним из «советчиков» этих неразумных идей и являлся Гайдар. «План Павлова» в полном объеме и был реализован Гайдаром , который Ельциным преподносился как высшее достижение реформаторской мысли!..
Конечно, никаким реформатором Гайдар не был: для него что социализм, что капитализм - понятия достаточно абстрактные, главное для него – это то, что может дать ему лично, его среде, его корпорации нахождение во Власти.
Его внедрила в ельцинскую стаю старая московская бюрократия, которая, расставшись с политической властью, мгновенно оценила ситуацию и бульдожьей хваткой вцепилась в финансово-экономический сектор в ожидании грядущей приватизации.
В силу абсолютного незнания того, что он должен был делать, возглавив финансово-экономический блок правительства, Гайдар слепо полагался на своих заокеанских советников . А они предоставляли России далеко не лучший американский товар. Так премьерство Гайдара стало ловушкой для России.
 Геннадий Бурбулис
Геннадий Бурбулис
За один год своего пребывания у власти, а это почти весь 1992 год, Егор Гайдар и Геннадий Бурбулис сумели провести следующие диверсии:
- блокирование производственного процесса в масштабах всей страны и прежде всего в промышленности и сельском хозяйстве, отказ от их кредитования;
- либерализация цен на все виды изделий, в том числе на продовольствие и товары народного потребления;
- «распыление» сбережений населения на счетах сберегательных касс без каких-либо государственных обязательств.
Популярное
- Коэффициент к2 по енвд: на что он влияет, и кто его устанавливает?
- Кадастровая стоимость выше продажной как оучше оформить договор
- Уведомление о применении УСН: образец письма
- Столичные власти определились с первыми сериями пятиэтажек под снос
- В каких числах могут приходить детские пособия
- Договор на выполнение функций технического заказчика
- Что такое гос. долг страны? Государственный долг - долговые обязательства Российской Федерации перед физическими и юридическими лицами, иностранными государствами и международными организациями Внешний государственный долг
- Могу ли я сделать страховку без хозяина машины
- Современное производство
- Финансовая грамотность населения и ее повышение